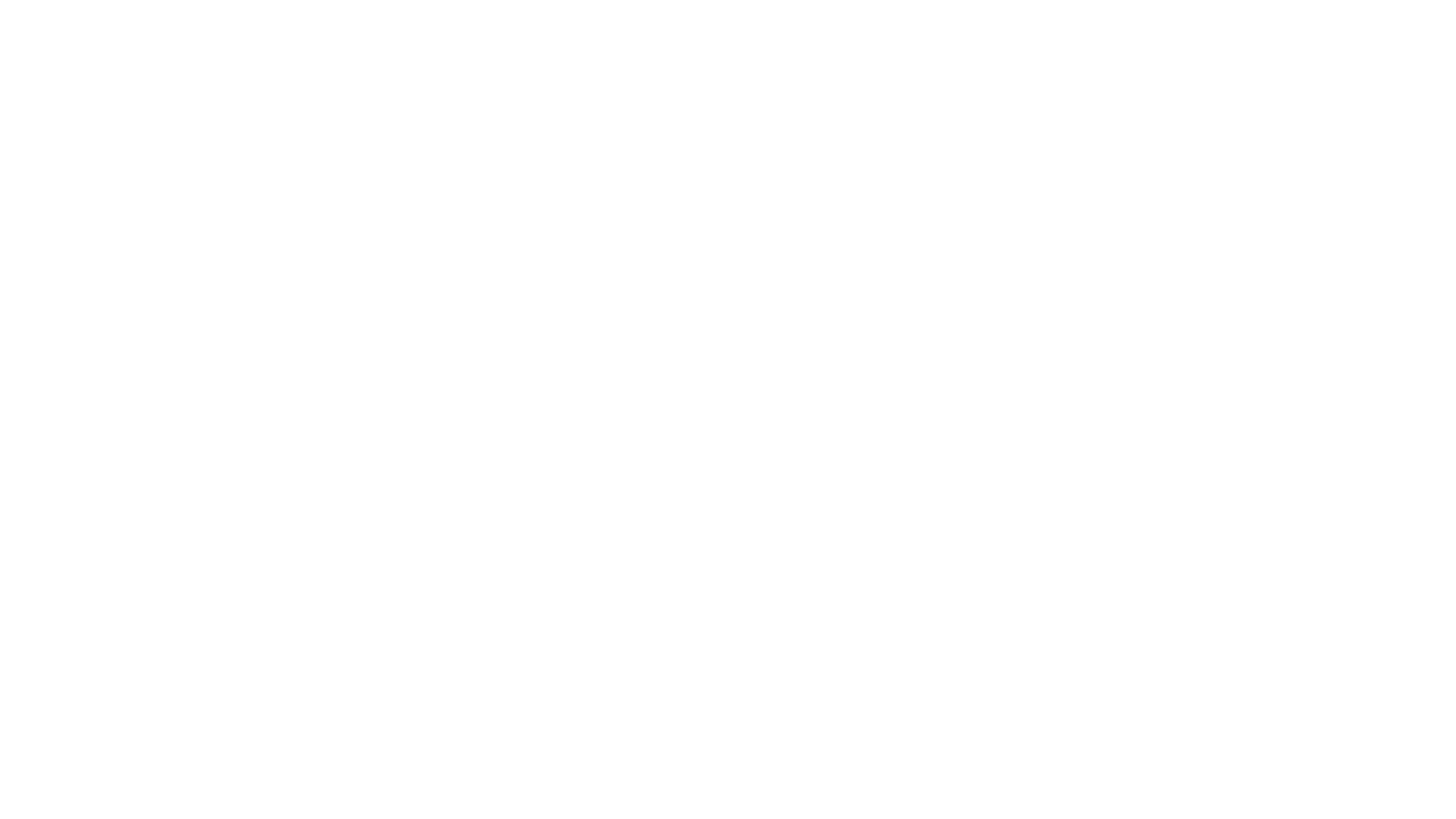
Академия ритейла и ГипермаркеР продолжают серию разговоров с ключевыми фигурами розничного рынка. Сегодня мы беседуем с Президентом Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергеем Беляковым о тенденциях, перспективах и вызовах этой динамичной отрасли.
— Добрый день, коллеги! Это ГипермаркеР. Меня зовут Алексей, я основатель Академии ритейла. Сегодня у нас в гостях человек, которого без преувеличения знают все на розничном рынке — Сергей Беляков. Прежде всего хочу поздравить вас с новой ролью: вы возглавили Ассоциацию производителей и поставщиков готовой еды.
— Она уже не совсем новая — ассоциации почти год. У нас уже есть итоги, которыми можно поделиться.
— Тем не менее поздравления не бывают лишними. А если серьезно, начнем с главного: расскажите, как устроен рынок производителей и продавцов готовой еды — его размер, структура, ключевые игроки.
— Прежде всего, рынок готовой еды растет очень быстро. В 2024 году мировой рынок увеличился почти на 8% — это более 220 миллиардов долларов. Россия тоже показывает динамику: рост составил 5,2%. Причины очевидны: развитие доставки и устойчивый спрос на удобные и полезные продукты.
Готовая еда — это порционная промышленно произведенная продукция, которую не нужно готовить. Это экономит время и деньги, ведь покупка отдельных ингредиентов и их хранение зачастую обходятся дороже. Правильная упаковка обеспечивает сохранность и удобство: продукт можно разогреть прямо в ней или в тарелке.
Таким образом, готовая еда — это одновременно удобство, доступность и тренд здорового питания.
— Вы сказали, что российский рынок вырос на 5,2%. А в абсолютных цифрах?
— В 2024 году объем оценивается в 5,8 триллиона рублей. В ближайшие годы он приблизится к 10 триллионам. Это огромные масштабы, которые буквально обязывают компании инвестировать в это направление.
— Ритейлеры, с которыми мы общаемся, называют еще более высокие темпы — Ритейлеры, с которыми мы общаемся, называют еще более высокие темпы роста — до 30% в год, особенно в региональной рознице. Как распределяется рост по каналам?
— В основном за счет розницы. Если говорить о структуре рынка, ее условно можно разделить на две части. Первая — это компании, юридически являющиеся частью торговых сетей: X5, «Магнит», «Азбука вкуса», Ozon, «Яндекс.Лавка». Вторая — независимые производители, которые реализуют продукцию самостоятельно или через сетевые форматы, выступая контрагентами розницы.
Почему это важно? Даже обладая собственным производственным потенциалом, сети не способны удовлетворить весь спрос. Например, доля собственного производства у крупнейших игроков составляет меньше 10%. Можно инвестировать, наращивать объем, но все равно полностью закрыть потребности только за счет собственных мощностей невозможно. Причем речь не о товарах под СТМ, которые нередко производят независимые фабрики, а именно о продукции собственного производства. Поэтому ниша для независимых производителей огромная.
Для нашей ассоциации ключевым критерием при принятии новых членов является не масштаб компании-производителя, а качество производственных процессов: оборудование, квалификация персонала, соблюдение санитарных норм. Одна из наших важнейших задач — поощрять добросовестных производителей, показывать, что ответственное производство — это не просто тезис, который нуждается в подтвержденнии, а факт, что оно уже есть и обеспечивает не только вкусный, но и безопасный продукт.
Именно этим руководствовались компании, которые год назад приняли решение создать Ассоциацию. Учредителями стали «Перекресток вкусов» (дочка X5), «Азбука вкуса», Mr. Food (бренды Hookchart, Sea Cafe, Creative Kitchen; известен как ПО «Коронафуд»), «Омега» (производитель ингредиентов для пищевой промышленности), «Талина» (мясокомбинат, входящий в одноименный холдинг), а также «Яндекс.Лавка». Сейчас ассоциации всего год, но уже есть несколько заявок от новых компаний. Рынок значительно шире, и мы очень внимательно относимся к тому, кого принимаем. Для нас важно не просто констатировать наличие высоких стандартов, но и расширять число игроков, реально работающих по этим стандартам.
—Есть мнение, что рынок готовой еды — это своего рода хайп. Да, сейчас рост очевиден, и тем не менее, звучит среди Академиков такая мысль, что через год- два мы можем оказаться на пороге кризиса перепроизводства готовой еды. Что вы думаете по этому поводу?
— Экономика — наука, которая оперирует понятными категориями и законами. Один из них — о насыщенности или ненасыщенности рынка. Сегодня рынок готовой еды далек от насыщения: производственные мощности, обеспечивающие разнообразие SKU, пока не покрывают спрос. Поэтому компании продолжают активно инвестировать — как собственные средства, так и привлеченные.
Конечно, рано или поздно рынок начнет насыщаться. Но это точно не горизонты 2–3 лет — речь скорее о десятилетиии. Да, со временем темпы роста замедлятся, что естественно: рынок будет расти в объемах и в деньгах, и на определенном этапе масштабный сегмент станет прибавлять меньшими темпами. Но он продолжит расти еще долго.
Если взять в качестве примера финансовый рынок. Кажется, что он – насыщен: количество банков и кредитных организаций сокращается. Но проникновение услуг — кредитных, страховых, брокерских — постоянно увеличивается! Экспансия по географии сменяется углублением отношений с клиентами, и уже существующим покупателям предлагают новые продукты.
С готовой едой будет так же. Начальный этап уже пройден, сформировалась устойчивая тенденция роста, потребитель понимает, что такое готовая еда, и меняет отношение к ней. Производитель и сетевая розница реагирует на желания покупателей: появляются разные категории, блюда с сахаром и без, здоровое или нездоровое питание, русская, европейская, или восточная кухня. Один из растущих трендов сегодня — интерес к национальной кухне, включая русскую. Естественно, появляются блюда, удовлетворяющие этот спрос: борщ, щи, каши — причем в разных вариациях, учитывающих вкусы потребителей.
Таким образом, рынок развивается не только «вширь», но и «вглубь», поэтому я спокоен в части перспектив развития рынка готовой еды.
— Есть еще один аспект — локальность. Если ритейлер инвестирует в мощности в своем регионе, он фактически защищает рынок от конкурентов. Насколько эта идея верна?
— Издержки всегда являются важным фактором. Когда компании принимают решение об инвестициях в производство, они смотрят, где его разместить и на какой регион оно будет ориентировано. Крупные сетевые форматы чаще всего размещают мощности вокруг крупных городов — в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, потому что здесь хорошо развита транспортная инфраструктура. Это снижает издержки на доставку: плечо короткое, скорость высокая. Вокруг этих агломераций расположены логистические центры, которые аккумулируют большие объемы продукции и быстро распределяют их по огромному количеству магазинов.
То же самое делают и независимые компании: если они находятся рядом с сетями, то скорость доставки минимальна. Это отражается не только в цене (часть себестоимости снижается), но и в планировании закупок, в возможности постоянно пополнять склады и быстро реализовывать продукцию. А это ключевая задача розницы — обеспечить максимально высокую оборачиваемость товаров, чтобы они не залеживались.
Сегодня сетевая розница активно идет в регионы: открываются магазины на Дальнем Востоке, во Владивостоке, в Амурской области. Это означает, что там тоже будет формироваться спрос. Возможно, производство начнется с меньших объемов, но с перспективой увеличения мощностей. При этом быстро развиваются и каналы дистрибуции, включая доставку, что дает независимым производителям хороший стимул оценить перспективы размещения производства в регионах.
Я уже говорил: упаковка — важнейший элемент готовой еды. Она позволяет хранить продукцию не часами, как в общепите, а неделями. Две недели — нормальный срок. Но покупателю все равно важно, чтобы срок годности был максимально долгим именно в момент покупки. И не хочется, чтобы он сокращался из-за длительной транспортировки — будь то доставка до магазина, до логистического центра или до двери клиента.
Экономика, как и природа, пустоты не терпит. Если появляется возможность, бизнес-модели и производственные мощности быстро ее заполняют. Цель предпринимательской деятельности — прибыль, и все, что помогает ее получать, будет реализовано. Если не вами, то кем-то другим. Как только кто-то научился делать что-то успешно, остальные подтягиваются.
Вспомните, как менялся «золотой стандарт» доставки онлайн-товаров. Сначала это были часы, потом час, а сейчас можно получить заказ за 20–30 минут. И если кто-то способен обеспечивать такой уровень сервиса, остальные вынуждены перестраивать свои модели или копировать успех. Для потребителя это, конечно, благо. То же самое произойдет и с готовой едой: постепенно вся страна будет охвачена интересом и возможностью доставки таких продуктов.
— Какие главные задачи стоят перед Ассоциацией? Какие “боли” объединили бизнес?
— Первое, за что мы стоим, — это подтверждение качества. Готовая еда должна ассоциироваться не только с удобством, вкусом или экономией, но и с безопасностью. Для нас важно формировать и поддерживать положительный имидж готовой еды и её производителей, развивать условия для добросовестных практик.
На любом рынке появляются компании, которые стремятся максимизировать прибыль, что само по себе нормально. Но ненормально делать это любыми способами, экономя на качестве, чтобы удовлетворить растущий спрос. На пути таких игроков нужно ставить чёткий барьер. Если проблемы замалчивать, это создаёт не возможности, а риски. Рано или поздно такие истории обрушатся на всех участников рынка: и на экономику, потому что начнут тиражироваться негативные примеры, и на регулирование, потому что возникнет устойчивая ассоциация всего рынка с проблемами.
Нам важно поощрять ответственных производителей, тех, кто вкладывает деньги, знания и производственные ресурсы в качество и безопасность продукции, — и отделять их от тех, кто этого не делает. Причём не просто отделять, а вместе с государством формировать такое правовое поле и регуляторную политику, которые будут исключать появление на рынке недобросовестных игроков, а если они всё же появляются — быстро пресекать их деятельность. Это задача максимум.
Из неё вытекает вторая не менее важная задача. Сейчас мы ведём активный диалог внутри отрасли, чтобы определить, что такое «готовая еда». На бытовом уровне это понятно, но когда речь идёт о формировании обязательных требований, они должны быть чётко прописаны и одинаково толковаться и регулятором, и бизнесом. Любой произвол здесь опасен.
Мы проанализировали международный опыт — как в разных странах законодатели и рынок подходили к определению готовой еды. Сейчас прорабатываем возможность закрепления такого определения и список документов, куда нужно вносить изменения или выпускать новые. Работаем над этим вместе с Роспотребнадзором и Минпромторгом. Это вторая важнейшая задача, напрямую связанная с решением первой глобальной.
— Речь идет о корректировке действующего законодательства или о принятии нового закона?
— Сейчас мы анализируем действующее законодательство, насколько его достаточно при условии внесения изменений. Пока кажется, что можно обойтись корректировкой существующих стандартов, техрегламентов, правил, ГОСТов. Если же выяснится, что потребуется новое регулирование, будем работать и над этим, но пока мы не видим необходимости в новом законе.
Когда вы приходите в магазин или заказываете готовую еду, вы защищены от негативных последствий: производители ничего не делают вне рамок закона. Все требования прописаны — от организации производства и допустимых ингредиентов до правил маркировки. Под маркировкой я имею в виду не систему «Честного знака», которая только запускается в пилоте, а описание продукта: состав, ингридиенты,срок хранения, пищевая ценность. Всё это обязательные элементы информирования потребителя, чтобы он не покупал «вслепую», а понимал, что именно приобретает и насколько заявленный состав соответствует реальности. Это тоже важная часть обеспечения качества и безопасности продукции.
— Есть мнение, что «Честный знак» – хорошая основа для регулирования.
— Если система работает эффективно — а, на мой взгляд, она работает достаточно эффективно, — то как раз с её помощью можно на уровне цифровых технологий чётко отделять законных производителей от незаконных.
— Теперь короткие вопросы. Срок хранения 20 дней — не слишком ли много?
— 20 дней я назвал скорее условно, как верхнюю границу. Обычно срок хранения составляет 10–14 дней, для некоторых категорий — до 20. Как он определяется?
Всё делается на экспертном уровне: когда производитель выпускает продукцию, упаковывает её определённым образом, используя, например, газовые смеси, он предварительно проводит испытания и точно знает, в течение какого времени продукт может храниться безопасно и при каком температурном режиме.
Температурный режим соблюдается на всех этапах, от хранения ингредиентов на фабрике и приготовления блюда до транспортировки, складирования, реализации в магазине или при доставке в сумках-холодильниках и небольших морозильных камерах.
Когда вы как потребитель получаете готовое блюдо — в магазине или от курьера, — на упаковке всегда указаны дата производства, срок хранения и сколько дней осталось до конца его годности. Поэтому если вы видите на упаковке, что срок составляет 20 дней, можете спокойно потреблять продукт, не сомневаясь в корректности этой информации.
Это то же самое, что с молоком, яйцами или мясом: на упаковке всегда есть дата производства и срок хранения. Только у молока один срок, у сырников другой, у мясной продукции третий. Всё зависит от ингредиентов и применяемых технологий.
Сегодня технологии позволяют хранить продукцию дольше без потери вкусовых качеств и без рисков для безопасности. Конечно, не бесконечно: это не консервы, которые могут стоять годами. Но, например, появилась технология стрессовой заморозки — она быстро охлаждает продукт до очень низкой температуры, сохраняя его свойства и увеличивая срок хранения. Не для всех категорий она применима, но для некоторых — вполне. Именно такие технологические различия и определяют разницу сроков хранения разных видов готовой еды.
— Упаковка. Не растет ли ее объем вместе с ростом готовой еды?
— У нас сейчас есть запрос от одной крупной компании, занимающейся производством упаковки. Пока не буду её называть, так как она ещё не вошла в ассоциацию. Сам факт интереса к членству уже говорит о том, что они рассматривают рынок готовой еды как быстрорастущий. Более того, они сами наращивают производственные мощности по выпуску упаковки именно для этого сегмента. Динамика здесь очень серьёзная — кривая роста показывает крутой угол наклона.
— Есть ли перспектива, что готовая еда сможет обходиться без температурного режима?
— Я не технолог и не специалист, но думаю, что даже у экспертов здесь нет однозначного ответа, мнения могут различаться. Я бы посмотрел на это иначе: если есть необходимость сохранять температурный режим для гарантии вкусовых свойств и безопасности, то, скорее всего, будут развиваться именно технологии, которые обеспечивают стабильную температуру.
На всех производствах, где я был, есть холодильные камеры – огромные помещения, — куда поступают ингредиенты для приготовления. В них всё раскладывается по секциям: мясо отдельно, овощи отдельно, продукты для сладких блюд отдельно. Если температура где-то начинает отклоняться, система моментально подает сигнал — визуальный или звуковой, срабатывает автоматика. Решение принимается быстро: либо продукцию перекладывают в другую зону, либо устраняют неисправность.
Для потребителя это означает, что срок хранения продукта всегда соблюдён. От поступления ингредиентов на фабрику до выхода готового блюда каждая стадия маркируется, фиксируется штрихкодами, то есть это гарантия, что все технологические процессы выполнены вовремя и правильно.
При этом появляются новые решения, например стрессовая заморозка. Она позволяет очень быстро охладить продукт до низкой температуры, сохраняя его качества и увеличивая срок хранения. Применяется она не для всех категорий, но в ряде случаев — вполне эффективно. Поэтому движение идёт именно в сторону развития технологий, которые делают температурный контроль более надёжным, а не в сторону отказа от него.
— То есть идёт своего рода «соревнование» между производителями за увеличение сроков хранения?
—Наверное, нет. Экономика ритейла подчиняется своим законам, и главная задача здесь не удлинить срок хранения, а обеспечить максимально быструю реализацию продукции.
— То есть точность повысить, на самом деле?
— Да, именно точность. Ритейл работает с большими цифрами и объемами. Если продукция будет долго лежать на складе до реализации — будь то фулфилмент-центр, крупное складское помещение, производственный цех или даже магазин, — она будет занимать место на полке. А это мешает производить больше и удовлетворять растущий спрос. Поэтому очень важно быстро реализовывать продукцию.
Все технологические процессы и маркетинговые усилия на это и направлены: продукт должен попадать на полку и быстро находить покупателя. Да и сам потребитель воспринимает готовую еду как свежую — он хочет купить её и сразу употребить, а не хранить неделями.
— Рестораны — конкуренты для производителей готовой еды?
— Во-первых, конкуренция это всегда хорошо.
Во-вторых, рестораны тоже предлагают готовую еду, но это продукция общественного питания: она не упаковывается для длительного хранения и не может храниться много дней. Для доставки еду, конечно, упаковывают, но срок её употребления измеряется часами.
Это, по сути, другой бизнес. Мы с коллегами из ресторанной индустрии общаемся очень тесно, и это полезное взаимодействие. Его смысл в том, чтобы новые регуляторные требования и определения, о которых мы говорим, не создавали для них дополнительных избыточных обязательств. Нужно учитывать специфику продукции. Там, где специфика позволяет объединить требования и к их продукту, и к нашему, унификация — это хороший путь. Там же, где различия очевидны и связаны с особенностями поведения потребителей, скорее всего, будет разделение. Но ни нам, ни им не нужны лишние нормы, которые дублируют уже существующие.
— Один яркий тренд во вкусах: во что нужно инвестировать сейчас, чтобы через полгода/через квартал “попасть во вкусы”?
— Сложный для реализации, но понятный тренд — обеспечить широкий выбор для конечного потребителя. При этом важно, анализируя большой массив данных о частотности покупок и предпочтениях клиентов, не ошибиться и не начать производить то, что спросом не пользуется. Если удастся, что называется, «раскрутить» товар — отлично. Но решение о запуске нужно принимать только после анализа.
Широкий ассортимент может быть конкурентным преимуществом, но если в нём появляются плохо реализуемые позиции, это превращается в издержки.
Второе это специализация готовых блюд. Это касается как здорового и спортивного питания, так и более специфических запросов.
Есть, например, профессии, где требуется высококалорийное питание — вахтовый метод работы, сменные бригады. Для них еда должна обеспечивать работоспособность, и это отдельный канал спроса.
Соответствие таким специфическим запросам и трендам — очевидное направление.Особенно это касается спортивного питания. Покупатель хочет иметь возможность приобрести такие продукты не в специализированной точке, а прямо там, где он делает обычные покупки.
— Упаковка: есть свои тренды? Что растёт, а что теряет популярность у покупателей?
— У покупателя запрос простой: упаковка должна быть удобной и обеспечивать сохранность продукта вне зависимости от того, насколько аккуратно её транспортируют.
А для тех, кто является потребителем упаковки, независимых производителей готовой еды или производственных подразделений торговых сетей, важно, чтобы она была качественной, надёжной и при этом не слишком дорогой. И, конечно, экологичность.
— Спасибо за разговор. Думаю, нашим коллегам это будет очень полезно.
— Спасибо вам.