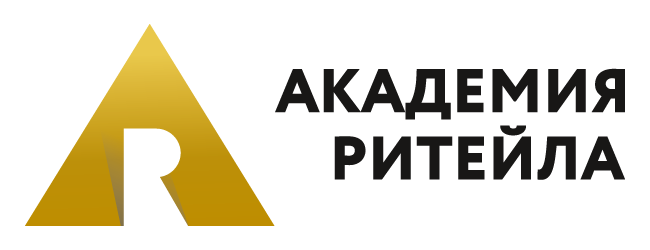Интервью с Юлией Ким, Управляющим партнёром, Polaris Capital
специально к стратегической сессии Акционеров и СЕО ритейла 5-6 сентября 2025 г. в Сберуниверситете
2 сентября 2025
2 сентября 2025
Алексей Филатов:
– Я Алексей Филатов, основатель Академии ритейла. Сегодня у меня в гостях Юлия Ким — основательница и руководитель инвестиционно-банковской группы Polaris Capital. Юлия, спасибо, что присоединились.
Юлия Ким:
– Добрый день! Спасибо за приглашение, очень рада пообщаться.
– Наша беседа проходит буквально накануне стратегической сессии Академии ритейла, где мы будем рады вас видеть. Но уже сегодня хочу воспользоваться вашим опытом! Я подхожу к нашему разговору с той точки зрения, что вы — основательница и руководитель инвестиционно-банковской группы Polaris Capital и хочу воспользоваться вашим опытом как человека, у которого есть широкая картина того, что происходит в среде инвесторов.
В этой связи первый вопрос: можно ли как-то измерить настроение в моменте? Я могу твёрдо сказать, что в рознице ситуация непростая. Паникой это не назовёшь, но последние кварталы — довольно тяжёлое время с явным снижением покупательской активности. Что у вас, Юлия?
– У нас ситуация очень похожая. Я работаю на рынке уже 25 лет, и этот опыт позволяет философски относиться к кризисам. Мы прошли через них не раз, понимаем, как они начинаются и чем заканчиваются, поэтому можем предсказывать, что будет дальше.
Если говорить о рынке капитала, на котором мы специализируемся, и о настроениях инвесторов в акциях, то осенью 2023 года начался настоящий ренессанс. Многие компании вышли на IPO, а розничные инвесторы активно начали покупать акции, переводя деньги с депозитов на биржу. Таким образом они стали участниками большого экономического процесса по финансированию инноваций и роста бизнеса, взяв на себя функцию, которая традиционно принадлежала институциональным фондам.
– Извините, уточню: это было осенью прошлого, 2023 года?
– Осень 23-го года — это как раз начало волны IPO. Дальше тренд продолжился и в 2024 году, но был сломлен тем, что очень сильно выросла ключевая ставка и начала негативно влиять на финансовое состояние компаний. Их результаты постепенно ухудшались, и уже по итогам первого квартала стало ясно: многие сектора экономики проседают, показатели компаний снижаются. Даже в технологическом секторе, где рост сохраняется, темпы уже не такие, как ожидали и сами компании, и инвесторы.
Это привело к падению стоимости акций на бирже. Розничные инвесторы, которые с ажиотажем вкладывались в рынок капитала, оказались разочарованы: если смотреть динамику цен от момента IPO до сегодняшнего дня, то большинство компаний в минусе, и многие инвесторы потеряли деньги.
Причём речь не только о частных лицах. Считается, что они недостаточно квалифицированы и принимают решения «от сердца». Я с этим не совсем согласна: если смотреть на всю популяцию, работают скорее законы статистики, и коллективный разум здесь умный. Но ошибки допустили и институциональные фонды, которые активно инвестировали в новые компании. В прошлом году было несколько IPO, а в этом году рынок, к сожалению, стоит. Все эти инвесторы понесли значительные потери, вложившись в акции.
– Насколько существенными были потери?
– Потери в стоимости акций доходят до 60%. В среднем падение составляет от 30 до 60%. Буквально одна-две компании торгуются выше цены IPO. Я сейчас говорю в первую очередь про сектор «новичков» — компании, которые только-только вышли на биржу. Насколько я помню, Arenadata — единственная из них, кто сейчас торгуется в плюсе. А основная часть компаний, к сожалению, ушла в минус. Мы действительно видим этот тренд: экономика замедляется, снижается покупательная активность, то же самое, что вы наблюдаете в ритейле. И эти процессы волной переходят и на рынок капитала в целом.
– Это подталкивает людей снова и снова возвращаться в депозиты?
– Наверное, они действительно обожглись. Ведь и у Московской биржи, и у Центрального банка как у регулятора была большая надежда: колоссальные средства, которые сейчас лежат в банках на депозитах и в наличной валюте, постепенно будут перетекать на фондовый рынок. В целом этот тренд есть, он появился.
Если посмотреть на статистику по брокерским счетам: в России их уже 36 миллионов, и около 4 миллионов человек активно торгуют. Это беспрецедентные цифры, которых раньше никогда не было. Причём это не только российский тренд, а глобальный: во всём мире физические лица получили доступ к публичным рынкам капитала, чего раньше не было. Появились такие платформы, как Robinhood, которая сегодня является лидером в сегменте доступа к публичным рынкам капитала для частных инвесторов.
Таким образом идёт демократизация: люди диверсифицируют свои вложения, вкладывая не только в депозиты, но и напрямую участвуя в рынках капитала через собственные инвестиции.
Если говорить о цифрах: у населения в банках примерно 130 трлн рублей. Из них около 70 трлн, то есть больше половины, приходится именно на депозиты. Второе место по объёмам — это валюта, около 25 трлн. А в фондовый рынок инвестировано всего около 13% средств.
– Но и на валюте ведь тоже сильно не заработаешь?
– Профессионалы говорят: не храните валюту просто так — «под подушкой» или на депозите, потому что депозиты ничего не приносят. Есть ряд рыночных инструментов, куда можно вложить деньги: валютные облигации, замещающие облигации, которые сейчас доступны для покупки.
С учётом перспективы удешевления рубля к концу года — а это, скорее, консенсус ожиданий, чем тренд — инвестиции в такие инструменты, валютные, но при этом ликвидные, выглядят хорошей альтернативой для населения. Это способ защитить свои сбережения и, возможно, дождаться момента, когда будет выгоднее вкладываться уже в акции и реальные активы.
– Хочется вернуться к теме настроений инвесторов. Но прежде давайте немного о вас и вашей компании. Чем вы занимаетесь? В чём основная идея вашего бизнеса?
–Если кратко и ёмко, мы помогаем компаниям привлекать капитал для развития, используя инструменты финансового рынка, в первую очередь — акционерного капитала. Мы готовим компанию к IPO, к привлечению средств и помогаем получить этот капитал от институциональных фондов. Мы также консультируем по сделкам M&A.
По сути, наша компания — это корпоративно-финансовая часть инвестиционного банка. В банках помимо этого обычно есть ещё трейдинг. Инвестиционного фонда у нас пока нет, но мы об этом думаем, потому что это логичное дополнение к нашей деятельности.
В целом мы как партнёры помогаем клиентам сформировать стратегию развития и повысить ценность бизнеса. Наш слоган — «рост акционерной стоимости бизнеса». Именно этим мы и занимаемся.
Мы много работаем со стратегией через призму рынков капитала: помогаем компаниям выстроить своё видение будущего, структурировать бизнес и управление так, чтобы максимизировать оценку и получить доступ к капиталу. А возможность привлекать деньги для финансирования роста, сделок или мотивации сотрудников — это важнейшая функция рынков капитала и экономики в целом. Не случайно биржа и государство говорят о росте капитализации рынка: это инструмент огромной важности, который позволяет компаниям расти и экономике развиваться. И именно эту функцию мы выполняем.
–Мне кажется, что особенно сейчас, когда деньги настолько дорогие, как, пожалуй, не было многие годы, ваш вклад может быть очень ценным.
Возвращаясь к инвесторам. Публичный рынок, институциональные фонды - да! Но у меня было ощущение, особенно в 2023-м, может быть, в 2024-м году, что раз деньги замкнуты внутри страны, на рынке появилось довольно много крупных частных инвесторов, которые вели себя очень активно. Было много покупок, в том числе зарубежных активов.
Что с этой группой сейчас? Какое у них настроение? Вопрос не случайный. Теоретически ведь вполне реальна ситуация, когда некоторые розничные компании могут оказаться на грани банкротства. Ситуация напряжённая, и в этот момент кажется, что это тоже неплохое время для такого рода инвесторов…
– Да, вы абсолютно правы. Мы всё чаще видим дистресс-ситуации, когда компания не справляется с долговой нагрузкой, с управлением денежными потоками, с давлением на цены. Компания уходит в пике, и тогда нужен «белый рыцарь», который спасёт бизнес.
Действительно формируется целый пласт хайнетов — состоятельных инвесторов, которых раньше не было. Объясню. На лекциях я часто показываю пирамиду финансового рынка, принятую на Западе. В её основании — венчурный капитал, доступный стартапам и компаниям на ранней стадии. Выше — private equity, затем pre-IPO фонды, а на вершине — IPO.
В России эта пирамида долго стояла «на голове»: был развит рынок публичного капитала, а private equity представляли всего несколько фондов. Family offices как значимые инвесторы в частный капитал фактически отсутствовали.
Что изменилось? Произошла настоящая деофшоризация: состоятельные люди были вынуждены вернуть деньги в страну. Это оказало заметный эффект как на публичный, так и на частный рынок. На IPO мы теперь видим заявки по 2–3 млрд рублей от одного физического лица, у которого даже нет собственного family office. Раньше это было трудно представить.
Появились такие инвесторы, которые просто принесли капиталы из-за границы и теперь ищут возможности вложений. С другой стороны, активно формируются family offices, где профессиональные команды управляют средствами таких людей.
И ещё один компонент это инвестиционные фонды. В них объединяются состоятельные инвесторы, государство также активно участвует через РФПИ, РВК, Сколково. Эти фонды профессионально инвестируют в компании, выращивая их в том числе для выхода на публичный рынок и IPO.
– То есть, получается, количество таких частных инвесторов заметно выросло, и они уже могут играть реальную роль — в том числе и на розничном рынке?
– Да. Если посмотреть на структуру инвесторов в российском публичном рынке, то сейчас около 45% рыночной капитализации находится во владении физических лиц — это очень много. Конечно, мы убираем ту часть капитализации, которая заморожена, то есть средства международных фондов. Но почти половина оставшегося «пирога» сегодня в руках частных инвесторов. Это действительно значительная доля.
– Куда могут пойти эти деньги? Может быть, задам вопрос шире: какие направления, сектора или идеи сейчас недооценены в целом? И, конечно, интересно услышать, что вы считаете наиболее ценным и интересным именно в рознице — широкой, включая и маркетплейсы, и омниканальный ритейл.
Наверное, если смотреть на рынок в целом, то можно подходить по-разному. Ситуативно, например, сегодня хорошо отрастают нефтяные компании. Интересно покупать и экспортоориентированные сектора, потому что мы ожидаем ослабления рубля к концу года.
А если говорить стратегически, то самые интересные направления — это новые технологии, IT, медицина. Мы видим множество компаний, которые недавно были стартапами, быстро растут, и по мере роста начинают объединяться с более мелкими игроками, активно укрупняясь и выходя на рынок.
Если смотреть сквозь призму публичного рынка, то именно такие истории сейчас наиболее интересны для инвесторов. Это компании, работающие на стыке с технологическим рынком, в том числе в сегменте импортозамещения. Это может быть MedTech, EdTech (хотя EdTech сейчас в более сложной ситуации), а если переходить к ритейлу — розничные компании, которые получают преимущества за счёт внедрения новых технологий.
В первую очередь это e-com, который, несмотря на общее состояние экономики, продолжает бурно расти. Среди перспективных эмитентов, которых рынок ждёт, можно назвать Wildberries, Lamoda.
Если говорить про fashion-ритейл, то недавно на рынок вышел Henderson. Это одно из успешных IPO: компания готовилась, буквально, несколько десятков лет и в итоге вышла на биржу. Теперь у широкой массы инвесторов появилась возможность участвовать и в этом сегменте рынка. Это тоже часть процесса импортозамещения: когда международные игроки ушли, возникла ниша, куда можно вкладываться.
— И ещё один уточняющий вопрос. Когда мы говорим о технологических компаниях в розничном секторе — вы упомянули Wildberries. Если я не ошибаюсь, у Ozon второй квартал едва ли не впервые в истории закончился без убытков, верно?
Они снова ушли в убыток, во втором квартале. В первом квартале показали прибыль, и весь рынок ждал, что Ozon наконец начнёт зарабатывать. Они вроде бы коснулись этой точки, но затем снова откатились в минус — из-за больших инвестиций, затрат на логистику и активного развития экосистемы.
В целом мы рассчитываем, что эти вложения принесут плоды и компания выйдет на прибыль. Но пока это всё ещё компания роста. Мотив покупать её акции связан именно с ожиданием прироста капитализации.
Когда мы оцениваем бизнес, мы смотрим либо на перспективы роста, либо на дивидендную доходность, когда компания уже зрелая, стабильно зарабатывает прибыль и выплачивает дивиденды. В случае с Ozon это пока история про рост.
— Ну то есть пока какого-то взрывного роста мы не ждём? Я имею в виду активность инвесторов и рост стоимости акций вот этих крупных цифровых компаний.
– Если говорить в целом про розницу, то особенно фуд, другие сегменты в меньшей степени, — это высокоцикличный рынок. Он сильно зависит от макроэкономики и показателей «здоровья» экономики. Соответственно, динамика стоимости акций напрямую связана с покупательной способностью населения и с тем, какие результаты по выручке и прибыльности компании способны показывать.
В фуд-ритейле мы видим, помимо цифровизации и совершенствования логистики, активное развитие форматов «у дома», а также более дешёвых форматов — например, «Чижик», который сейчас быстро растёт. Похоже, они нашли очень хорошую нишу, востребованную потребителем.
И вот эта гибкость, способность находить новые точки для роста — крайне ценное качество для любой компании, особенно в фуд-ритейле и в отраслях с низкой маржинальностью. Это особо ценное качество — умение развиваться даже на низкой марже и при этом обеспечивать доходность для акционеров.
– Да, 100%. Это, кстати, тоже одна из тем для обсуждения на стратсессии. У меня последнее уточнение перед двумя короткими вопросами. Хочу спросить прямо в лоб: можно ли сказать, что наши самые крупные компании — я имею в виду X5 и компани такого уровня — сейчас недооценены? То есть есть ли у них потенциал для роста стоимости?
– Да, если смотреть локально, то цена сейчас более-менее в равновесии. Если же сделать шаг вперёд и учитывать перспективу снижения ключевой ставки, а ещё дальше — возможное улучшение геополитической ситуации и макроэкономики в целом, то розничные компании, как и российский рынок в целом, существенно недооценены.
Сегодня дисконт российского рынка к глобальному составляет около 70–75%. По состоянию на утро — 74% по мультипликатору P/E по сравнению с американскими и европейскими рынками. Российский рынок всегда стоил дешевле, как и большинство развивающихся. Но если в нулевые годы дисконт был порядка 30% для IPO и около 20% для уже торгующихся компаний, а в 2020-е он вырос до 40%, то сейчас мы видим почти 75%. Фактически российские компании можно купить задаром.
Поэтому прошлым летом, когда появлялись хоть какие-то позитивные новости, рынок сразу реагировал ростом, и акции начинали резко дорожать. Думаю, что в целом, если смотреть на ритейл по всем категориям, он будет получать бенефиты и расти вместе с рынком.
Сегодня ситуация похожа на импортозамещение в IT и других отраслях, откуда ушли международные игроки.
– Позвольте задать ещё один вопрос, возможно, не самый простой. Мы летом проводили исследование: глубинные интервью с акционерами и CEO крупнейших компаний разных направлений ритейла. Один из выводов, к которому мы пришли: процесс укрупнения бизнеса меняет свой характер.
Долгое время крупные игроки покупали более мелких в своём же сегменте — например, региональные компании. Но сейчас мы видим случаи, когда консолидация идёт за счёт слияний и поглощений в соседних секторах: скажем, косметика и фуд, или детские товары и крупный фуд. И уж точно всё чаще в бизнес вовлекаются маркетплейсы.
То есть интеграция начинает происходить горизонтально, и создаётся ощущение, что глобальная цель бизнеса — экосистемный захват покупателя. Что вы думаете об этой перспективе? Может быть, есть параллели? Любые комментарии будут очень важны для нашего разговора.
– Мне кажется, здесь несколько факторов. Основной — если говорить про розничную торговлю, особенно про фуд, — это то, что рынок достиг точки насыщения. Вспоминаю IPO «Седьмого континента», которое мы делали в 2004 году. С тех пор прошло 20 лет, и тогда мы говорили о том, что у российского рынка огромные перспективы: смотрели на квадратные метры торговых площадей на душу населения и видели, что разрыв с международными рынками был кратный.
Рынок ритейла в целом уже насыщен. Все, кого можно было купить за эти годы, компании были куплены. Получился своего рода снежный ком: X5 стал крупным бизнесом и фактически «пропылесосил» рынок. Как только региональная компания становилась более-менее значимой, её тут же кто-то покупал, потому что стремление расти — естественная тяга любого бизнеса. Но сейчас, когда рынок близок к насыщению, в конкурентной борьбе становится сложнее создавать новые компании.
Огромный респект Андрею Кривенко с «Вкусвиллом», который на таком зрелом рынке смог вывести новую компанию с новой бизнес-моделью. Таких примеров немного, и Кривенко свою компанию никому не продаёт — попробуй её консолидируй. Да, была возможность купить «азбуку вкуса», но в целом таких M&A внутри вертикали почти не осталось.
А расти всё равно нужно, нужно максимизировать отдачу на капитал. У компании есть свободные средства — куда их инвестировать? Самый эффективный способ — не класть деньги на рынок денежного рынка Московской биржи, а вкладывать их в сферы, где ты являешься экспертом. Это применимо и для частного инвестора, и для крупной корпорации. Поэтому и происходит горизонтальный рост: фуд-компании выходят на смежные рынки, потому что у них есть капитал и управленческий ресурс, который можно использовать.
С другой стороны, благодаря технологиям появилась возможность строить экосистемы. Это как магнит: чем больше к нему притягивается, тем крупнее становится структура и тем активнее к ней «налипают» новые направления. Экономия на масштабе плюс технологии позволяют, например, банку стать ритейлером или тревел-компанией и полностью закрывать все потребности человека. Это движение идёт со стороны всех крупных игроков.
Поэтому если суммировать: с одной стороны, это зрелость рынка, а с другой — появление технологий, которых раньше не было, и которые позволяют выстраивать вокруг человека экосистему. И, соответственно, инвестировать свободный капитал не в вертикальный, а в горизонтальный рост.
– То есть и с точки зрения финансов, и с точки зрения влияния на потребительском рынке — вы бы сказали, что это правильное направление или даже, скорее, неизбежное?
Плюс здесь бигдата и всё остальное: чем лучше ты знаешь своего потребителя, тем больше можешь ему предложить. Мы хотим занимать всё большую долю в кошельке и всё большую долю в умах наших потребителей — именно поэтому сюда и стремимся.
– И финальный вопрос. Как вы думаете, когда может наступить тот самый правильный, хороший момент, чтобы привлекать деньги на публичном рынке, если можно так сказать?
Мы рассчитываем уже на октябрь–ноябрь этого года. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы ещё на два пункта. Тогда можно будет ожидать, что инвесторы будут готовы покупать, а компании — выходить на рынок по этим оценкам.
В пайплайне есть несколько сделок — я говорю о рынке в целом, — которые уже готовы к маркетингу. Мы чувствуем, что очередное окно откроется этой осенью. И хочется верить, что дальше оно не будет закрываться.
Конечно, многое зависит от геополитики и сопутствующих факторов. Но мы надеемся, что 2026 год станет действительно хорошим годом для публичного рынка.
– Юлия, большое спасибо! Нельзя было придумать более позитивный финал. С нетерпением ждём вас на стратегической сессии.
Спасибо! До встречи.
– Я Алексей Филатов, основатель Академии ритейла. Сегодня у меня в гостях Юлия Ким — основательница и руководитель инвестиционно-банковской группы Polaris Capital. Юлия, спасибо, что присоединились.
Юлия Ким:
– Добрый день! Спасибо за приглашение, очень рада пообщаться.
– Наша беседа проходит буквально накануне стратегической сессии Академии ритейла, где мы будем рады вас видеть. Но уже сегодня хочу воспользоваться вашим опытом! Я подхожу к нашему разговору с той точки зрения, что вы — основательница и руководитель инвестиционно-банковской группы Polaris Capital и хочу воспользоваться вашим опытом как человека, у которого есть широкая картина того, что происходит в среде инвесторов.
В этой связи первый вопрос: можно ли как-то измерить настроение в моменте? Я могу твёрдо сказать, что в рознице ситуация непростая. Паникой это не назовёшь, но последние кварталы — довольно тяжёлое время с явным снижением покупательской активности. Что у вас, Юлия?
– У нас ситуация очень похожая. Я работаю на рынке уже 25 лет, и этот опыт позволяет философски относиться к кризисам. Мы прошли через них не раз, понимаем, как они начинаются и чем заканчиваются, поэтому можем предсказывать, что будет дальше.
Если говорить о рынке капитала, на котором мы специализируемся, и о настроениях инвесторов в акциях, то осенью 2023 года начался настоящий ренессанс. Многие компании вышли на IPO, а розничные инвесторы активно начали покупать акции, переводя деньги с депозитов на биржу. Таким образом они стали участниками большого экономического процесса по финансированию инноваций и роста бизнеса, взяв на себя функцию, которая традиционно принадлежала институциональным фондам.
– Извините, уточню: это было осенью прошлого, 2023 года?
– Осень 23-го года — это как раз начало волны IPO. Дальше тренд продолжился и в 2024 году, но был сломлен тем, что очень сильно выросла ключевая ставка и начала негативно влиять на финансовое состояние компаний. Их результаты постепенно ухудшались, и уже по итогам первого квартала стало ясно: многие сектора экономики проседают, показатели компаний снижаются. Даже в технологическом секторе, где рост сохраняется, темпы уже не такие, как ожидали и сами компании, и инвесторы.
Это привело к падению стоимости акций на бирже. Розничные инвесторы, которые с ажиотажем вкладывались в рынок капитала, оказались разочарованы: если смотреть динамику цен от момента IPO до сегодняшнего дня, то большинство компаний в минусе, и многие инвесторы потеряли деньги.
Причём речь не только о частных лицах. Считается, что они недостаточно квалифицированы и принимают решения «от сердца». Я с этим не совсем согласна: если смотреть на всю популяцию, работают скорее законы статистики, и коллективный разум здесь умный. Но ошибки допустили и институциональные фонды, которые активно инвестировали в новые компании. В прошлом году было несколько IPO, а в этом году рынок, к сожалению, стоит. Все эти инвесторы понесли значительные потери, вложившись в акции.
– Насколько существенными были потери?
– Потери в стоимости акций доходят до 60%. В среднем падение составляет от 30 до 60%. Буквально одна-две компании торгуются выше цены IPO. Я сейчас говорю в первую очередь про сектор «новичков» — компании, которые только-только вышли на биржу. Насколько я помню, Arenadata — единственная из них, кто сейчас торгуется в плюсе. А основная часть компаний, к сожалению, ушла в минус. Мы действительно видим этот тренд: экономика замедляется, снижается покупательная активность, то же самое, что вы наблюдаете в ритейле. И эти процессы волной переходят и на рынок капитала в целом.
– Это подталкивает людей снова и снова возвращаться в депозиты?
– Наверное, они действительно обожглись. Ведь и у Московской биржи, и у Центрального банка как у регулятора была большая надежда: колоссальные средства, которые сейчас лежат в банках на депозитах и в наличной валюте, постепенно будут перетекать на фондовый рынок. В целом этот тренд есть, он появился.
Если посмотреть на статистику по брокерским счетам: в России их уже 36 миллионов, и около 4 миллионов человек активно торгуют. Это беспрецедентные цифры, которых раньше никогда не было. Причём это не только российский тренд, а глобальный: во всём мире физические лица получили доступ к публичным рынкам капитала, чего раньше не было. Появились такие платформы, как Robinhood, которая сегодня является лидером в сегменте доступа к публичным рынкам капитала для частных инвесторов.
Таким образом идёт демократизация: люди диверсифицируют свои вложения, вкладывая не только в депозиты, но и напрямую участвуя в рынках капитала через собственные инвестиции.
Если говорить о цифрах: у населения в банках примерно 130 трлн рублей. Из них около 70 трлн, то есть больше половины, приходится именно на депозиты. Второе место по объёмам — это валюта, около 25 трлн. А в фондовый рынок инвестировано всего около 13% средств.
– Но и на валюте ведь тоже сильно не заработаешь?
– Профессионалы говорят: не храните валюту просто так — «под подушкой» или на депозите, потому что депозиты ничего не приносят. Есть ряд рыночных инструментов, куда можно вложить деньги: валютные облигации, замещающие облигации, которые сейчас доступны для покупки.
С учётом перспективы удешевления рубля к концу года — а это, скорее, консенсус ожиданий, чем тренд — инвестиции в такие инструменты, валютные, но при этом ликвидные, выглядят хорошей альтернативой для населения. Это способ защитить свои сбережения и, возможно, дождаться момента, когда будет выгоднее вкладываться уже в акции и реальные активы.
– Хочется вернуться к теме настроений инвесторов. Но прежде давайте немного о вас и вашей компании. Чем вы занимаетесь? В чём основная идея вашего бизнеса?
–Если кратко и ёмко, мы помогаем компаниям привлекать капитал для развития, используя инструменты финансового рынка, в первую очередь — акционерного капитала. Мы готовим компанию к IPO, к привлечению средств и помогаем получить этот капитал от институциональных фондов. Мы также консультируем по сделкам M&A.
По сути, наша компания — это корпоративно-финансовая часть инвестиционного банка. В банках помимо этого обычно есть ещё трейдинг. Инвестиционного фонда у нас пока нет, но мы об этом думаем, потому что это логичное дополнение к нашей деятельности.
В целом мы как партнёры помогаем клиентам сформировать стратегию развития и повысить ценность бизнеса. Наш слоган — «рост акционерной стоимости бизнеса». Именно этим мы и занимаемся.
Мы много работаем со стратегией через призму рынков капитала: помогаем компаниям выстроить своё видение будущего, структурировать бизнес и управление так, чтобы максимизировать оценку и получить доступ к капиталу. А возможность привлекать деньги для финансирования роста, сделок или мотивации сотрудников — это важнейшая функция рынков капитала и экономики в целом. Не случайно биржа и государство говорят о росте капитализации рынка: это инструмент огромной важности, который позволяет компаниям расти и экономике развиваться. И именно эту функцию мы выполняем.
–Мне кажется, что особенно сейчас, когда деньги настолько дорогие, как, пожалуй, не было многие годы, ваш вклад может быть очень ценным.
Возвращаясь к инвесторам. Публичный рынок, институциональные фонды - да! Но у меня было ощущение, особенно в 2023-м, может быть, в 2024-м году, что раз деньги замкнуты внутри страны, на рынке появилось довольно много крупных частных инвесторов, которые вели себя очень активно. Было много покупок, в том числе зарубежных активов.
Что с этой группой сейчас? Какое у них настроение? Вопрос не случайный. Теоретически ведь вполне реальна ситуация, когда некоторые розничные компании могут оказаться на грани банкротства. Ситуация напряжённая, и в этот момент кажется, что это тоже неплохое время для такого рода инвесторов…
– Да, вы абсолютно правы. Мы всё чаще видим дистресс-ситуации, когда компания не справляется с долговой нагрузкой, с управлением денежными потоками, с давлением на цены. Компания уходит в пике, и тогда нужен «белый рыцарь», который спасёт бизнес.
Действительно формируется целый пласт хайнетов — состоятельных инвесторов, которых раньше не было. Объясню. На лекциях я часто показываю пирамиду финансового рынка, принятую на Западе. В её основании — венчурный капитал, доступный стартапам и компаниям на ранней стадии. Выше — private equity, затем pre-IPO фонды, а на вершине — IPO.
В России эта пирамида долго стояла «на голове»: был развит рынок публичного капитала, а private equity представляли всего несколько фондов. Family offices как значимые инвесторы в частный капитал фактически отсутствовали.
Что изменилось? Произошла настоящая деофшоризация: состоятельные люди были вынуждены вернуть деньги в страну. Это оказало заметный эффект как на публичный, так и на частный рынок. На IPO мы теперь видим заявки по 2–3 млрд рублей от одного физического лица, у которого даже нет собственного family office. Раньше это было трудно представить.
Появились такие инвесторы, которые просто принесли капиталы из-за границы и теперь ищут возможности вложений. С другой стороны, активно формируются family offices, где профессиональные команды управляют средствами таких людей.
И ещё один компонент это инвестиционные фонды. В них объединяются состоятельные инвесторы, государство также активно участвует через РФПИ, РВК, Сколково. Эти фонды профессионально инвестируют в компании, выращивая их в том числе для выхода на публичный рынок и IPO.
– То есть, получается, количество таких частных инвесторов заметно выросло, и они уже могут играть реальную роль — в том числе и на розничном рынке?
– Да. Если посмотреть на структуру инвесторов в российском публичном рынке, то сейчас около 45% рыночной капитализации находится во владении физических лиц — это очень много. Конечно, мы убираем ту часть капитализации, которая заморожена, то есть средства международных фондов. Но почти половина оставшегося «пирога» сегодня в руках частных инвесторов. Это действительно значительная доля.
– Куда могут пойти эти деньги? Может быть, задам вопрос шире: какие направления, сектора или идеи сейчас недооценены в целом? И, конечно, интересно услышать, что вы считаете наиболее ценным и интересным именно в рознице — широкой, включая и маркетплейсы, и омниканальный ритейл.
Наверное, если смотреть на рынок в целом, то можно подходить по-разному. Ситуативно, например, сегодня хорошо отрастают нефтяные компании. Интересно покупать и экспортоориентированные сектора, потому что мы ожидаем ослабления рубля к концу года.
А если говорить стратегически, то самые интересные направления — это новые технологии, IT, медицина. Мы видим множество компаний, которые недавно были стартапами, быстро растут, и по мере роста начинают объединяться с более мелкими игроками, активно укрупняясь и выходя на рынок.
Если смотреть сквозь призму публичного рынка, то именно такие истории сейчас наиболее интересны для инвесторов. Это компании, работающие на стыке с технологическим рынком, в том числе в сегменте импортозамещения. Это может быть MedTech, EdTech (хотя EdTech сейчас в более сложной ситуации), а если переходить к ритейлу — розничные компании, которые получают преимущества за счёт внедрения новых технологий.
В первую очередь это e-com, который, несмотря на общее состояние экономики, продолжает бурно расти. Среди перспективных эмитентов, которых рынок ждёт, можно назвать Wildberries, Lamoda.
Если говорить про fashion-ритейл, то недавно на рынок вышел Henderson. Это одно из успешных IPO: компания готовилась, буквально, несколько десятков лет и в итоге вышла на биржу. Теперь у широкой массы инвесторов появилась возможность участвовать и в этом сегменте рынка. Это тоже часть процесса импортозамещения: когда международные игроки ушли, возникла ниша, куда можно вкладываться.
— И ещё один уточняющий вопрос. Когда мы говорим о технологических компаниях в розничном секторе — вы упомянули Wildberries. Если я не ошибаюсь, у Ozon второй квартал едва ли не впервые в истории закончился без убытков, верно?
Они снова ушли в убыток, во втором квартале. В первом квартале показали прибыль, и весь рынок ждал, что Ozon наконец начнёт зарабатывать. Они вроде бы коснулись этой точки, но затем снова откатились в минус — из-за больших инвестиций, затрат на логистику и активного развития экосистемы.
В целом мы рассчитываем, что эти вложения принесут плоды и компания выйдет на прибыль. Но пока это всё ещё компания роста. Мотив покупать её акции связан именно с ожиданием прироста капитализации.
Когда мы оцениваем бизнес, мы смотрим либо на перспективы роста, либо на дивидендную доходность, когда компания уже зрелая, стабильно зарабатывает прибыль и выплачивает дивиденды. В случае с Ozon это пока история про рост.
— Ну то есть пока какого-то взрывного роста мы не ждём? Я имею в виду активность инвесторов и рост стоимости акций вот этих крупных цифровых компаний.
– Если говорить в целом про розницу, то особенно фуд, другие сегменты в меньшей степени, — это высокоцикличный рынок. Он сильно зависит от макроэкономики и показателей «здоровья» экономики. Соответственно, динамика стоимости акций напрямую связана с покупательной способностью населения и с тем, какие результаты по выручке и прибыльности компании способны показывать.
В фуд-ритейле мы видим, помимо цифровизации и совершенствования логистики, активное развитие форматов «у дома», а также более дешёвых форматов — например, «Чижик», который сейчас быстро растёт. Похоже, они нашли очень хорошую нишу, востребованную потребителем.
И вот эта гибкость, способность находить новые точки для роста — крайне ценное качество для любой компании, особенно в фуд-ритейле и в отраслях с низкой маржинальностью. Это особо ценное качество — умение развиваться даже на низкой марже и при этом обеспечивать доходность для акционеров.
– Да, 100%. Это, кстати, тоже одна из тем для обсуждения на стратсессии. У меня последнее уточнение перед двумя короткими вопросами. Хочу спросить прямо в лоб: можно ли сказать, что наши самые крупные компании — я имею в виду X5 и компани такого уровня — сейчас недооценены? То есть есть ли у них потенциал для роста стоимости?
– Да, если смотреть локально, то цена сейчас более-менее в равновесии. Если же сделать шаг вперёд и учитывать перспективу снижения ключевой ставки, а ещё дальше — возможное улучшение геополитической ситуации и макроэкономики в целом, то розничные компании, как и российский рынок в целом, существенно недооценены.
Сегодня дисконт российского рынка к глобальному составляет около 70–75%. По состоянию на утро — 74% по мультипликатору P/E по сравнению с американскими и европейскими рынками. Российский рынок всегда стоил дешевле, как и большинство развивающихся. Но если в нулевые годы дисконт был порядка 30% для IPO и около 20% для уже торгующихся компаний, а в 2020-е он вырос до 40%, то сейчас мы видим почти 75%. Фактически российские компании можно купить задаром.
Поэтому прошлым летом, когда появлялись хоть какие-то позитивные новости, рынок сразу реагировал ростом, и акции начинали резко дорожать. Думаю, что в целом, если смотреть на ритейл по всем категориям, он будет получать бенефиты и расти вместе с рынком.
Сегодня ситуация похожа на импортозамещение в IT и других отраслях, откуда ушли международные игроки.
– Позвольте задать ещё один вопрос, возможно, не самый простой. Мы летом проводили исследование: глубинные интервью с акционерами и CEO крупнейших компаний разных направлений ритейла. Один из выводов, к которому мы пришли: процесс укрупнения бизнеса меняет свой характер.
Долгое время крупные игроки покупали более мелких в своём же сегменте — например, региональные компании. Но сейчас мы видим случаи, когда консолидация идёт за счёт слияний и поглощений в соседних секторах: скажем, косметика и фуд, или детские товары и крупный фуд. И уж точно всё чаще в бизнес вовлекаются маркетплейсы.
То есть интеграция начинает происходить горизонтально, и создаётся ощущение, что глобальная цель бизнеса — экосистемный захват покупателя. Что вы думаете об этой перспективе? Может быть, есть параллели? Любые комментарии будут очень важны для нашего разговора.
– Мне кажется, здесь несколько факторов. Основной — если говорить про розничную торговлю, особенно про фуд, — это то, что рынок достиг точки насыщения. Вспоминаю IPO «Седьмого континента», которое мы делали в 2004 году. С тех пор прошло 20 лет, и тогда мы говорили о том, что у российского рынка огромные перспективы: смотрели на квадратные метры торговых площадей на душу населения и видели, что разрыв с международными рынками был кратный.
Рынок ритейла в целом уже насыщен. Все, кого можно было купить за эти годы, компании были куплены. Получился своего рода снежный ком: X5 стал крупным бизнесом и фактически «пропылесосил» рынок. Как только региональная компания становилась более-менее значимой, её тут же кто-то покупал, потому что стремление расти — естественная тяга любого бизнеса. Но сейчас, когда рынок близок к насыщению, в конкурентной борьбе становится сложнее создавать новые компании.
Огромный респект Андрею Кривенко с «Вкусвиллом», который на таком зрелом рынке смог вывести новую компанию с новой бизнес-моделью. Таких примеров немного, и Кривенко свою компанию никому не продаёт — попробуй её консолидируй. Да, была возможность купить «азбуку вкуса», но в целом таких M&A внутри вертикали почти не осталось.
А расти всё равно нужно, нужно максимизировать отдачу на капитал. У компании есть свободные средства — куда их инвестировать? Самый эффективный способ — не класть деньги на рынок денежного рынка Московской биржи, а вкладывать их в сферы, где ты являешься экспертом. Это применимо и для частного инвестора, и для крупной корпорации. Поэтому и происходит горизонтальный рост: фуд-компании выходят на смежные рынки, потому что у них есть капитал и управленческий ресурс, который можно использовать.
С другой стороны, благодаря технологиям появилась возможность строить экосистемы. Это как магнит: чем больше к нему притягивается, тем крупнее становится структура и тем активнее к ней «налипают» новые направления. Экономия на масштабе плюс технологии позволяют, например, банку стать ритейлером или тревел-компанией и полностью закрывать все потребности человека. Это движение идёт со стороны всех крупных игроков.
Поэтому если суммировать: с одной стороны, это зрелость рынка, а с другой — появление технологий, которых раньше не было, и которые позволяют выстраивать вокруг человека экосистему. И, соответственно, инвестировать свободный капитал не в вертикальный, а в горизонтальный рост.
– То есть и с точки зрения финансов, и с точки зрения влияния на потребительском рынке — вы бы сказали, что это правильное направление или даже, скорее, неизбежное?
Плюс здесь бигдата и всё остальное: чем лучше ты знаешь своего потребителя, тем больше можешь ему предложить. Мы хотим занимать всё большую долю в кошельке и всё большую долю в умах наших потребителей — именно поэтому сюда и стремимся.
– И финальный вопрос. Как вы думаете, когда может наступить тот самый правильный, хороший момент, чтобы привлекать деньги на публичном рынке, если можно так сказать?
Мы рассчитываем уже на октябрь–ноябрь этого года. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы ещё на два пункта. Тогда можно будет ожидать, что инвесторы будут готовы покупать, а компании — выходить на рынок по этим оценкам.
В пайплайне есть несколько сделок — я говорю о рынке в целом, — которые уже готовы к маркетингу. Мы чувствуем, что очередное окно откроется этой осенью. И хочется верить, что дальше оно не будет закрываться.
Конечно, многое зависит от геополитики и сопутствующих факторов. Но мы надеемся, что 2026 год станет действительно хорошим годом для публичного рынка.
– Юлия, большое спасибо! Нельзя было придумать более позитивный финал. С нетерпением ждём вас на стратегической сессии.
Спасибо! До встречи.