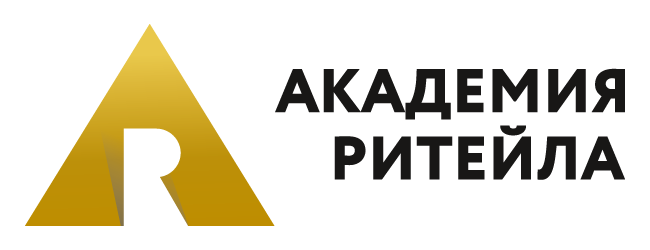Интервью
с Натальей Загвоздиной, Директором аналитического управления SberCIB
с Натальей Загвоздиной, Директором аналитического управления SberCIB
специально к стратегической сессии Акционеров и СЕО ритейла 5-6 сентября 2025 г. в Сберуниверситете
2 сентября 2025
2 сентября 2025
Алексей Филатов:
– Дорогие коллеги, привет! Это «ГипермаркеР». Я Алексей Филатов, основатель Академии ритейла. Сегодня, готовясь к уже совсем скоро предстоящей стратсессии Академии ритейла, у меня есть прекрасная возможность встретиться с Натальей Загвоздиной, главой аналитического управления Сбер CIB.
Если позволишь, у меня будет три блока вопросов. Сначала про макропоказатели, потом — про «боли» бизнеса, и в финале традиционный вопрос о курсе рубля. Давай начнём. Девять месяцев почти позади. Какие главные цифры?
Наталья Загвоздина:
– Мы пока не знаем точного размера квартального ВВП — статистика в этом выражении всегда запаздывает. По предварительным оценкам, он может быть близок к нулю. Уже в прошлом квартале рост опустился ниже 1,5%.
Начавшееся снижение ставки, которое, по нашим прогнозам, продолжится, пока не оказало накопленного эффекта, чтобы перезапустить экономику уже в этом году. Поэтому мы сохраняем свой прогноз: рост ВВП в этом году останется положительным, но значительно замедлится — около 1,5% после 4,3% в 2024-м и примерно таких же темпов в 2023-м. Это явное замедление.
Месяц назад мы в команде тревожились: не переохладили ли экономику после перегрева высокой ставкой. Но, похоже, этого не произошло: по данным июля и первым данным августа видны небольшие признаки оживления: рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц и чуть лучшая динамика в отдельных отраслях по сравнению с предыдущими шестью месяцами.
– Тем не менее, вначале ты сказала, что девять месяцев могут оказаться близкими к нулевому росту ВВП.
–Нет, речь о третьем квартале. Темпы роста ВВП в сопоставлении с аналогичными кварталами прошлого года снижаются всё сильнее. Возможно, и третий, и четвёртый кварталы мы пройдём с около нулевым ростом экономики в годовом выражении. По итогам года это даст около 1,5%. Недавно, кстати, Минэкономразвитие (или, возможно, Минфин в рамках подготовки бюджета) озвучивали прогноз 1,2%. То есть в диапазоне от 1 до 1,5% за весь год.
–ВВП — понятно. Что по зарплатам? Что видите по широкой картине?
– Мы видим сильное замедление темпов роста заработных плат. Если среднегодовая инфляция составит 9–10%, а к декабрю замедлится примерно до 7%, то рост зарплат, скорее всего, окажется на уровне инфляции — около 10%, а в некоторых отраслях даже ниже.
Сейчас довольно часто наблюдается оптимизация персонала, поиск эффективности за счёт цифровизации процессов — и в Сбере, и в других компаниях. Это отражает то, что корпоративный сектор серьёзно обеспокоен слабой динамикой прибыли. Сегодня примерно треть компаний в экономике — 30,4% — работают с убытком. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года таких было 28%. То есть доля убыточных предприятий немного выросла.
– Это не банкротства, это отчетности, да?
– Убытки компании, конечно, могут какое-то время потянуть. Есть разные резервы, есть меры оптимизации текущих расходов. Кто-то выходит из каких-то активов, кто-то продаёт, где-то идёт реорганизация. Может быть, сделки M&A, слияния и поглощения — всё это тоже инструменты. И в такие периоды эти процессы обычно ускоряются, их становится заметно больше. Объектов для поглощения, у кого финансовое состояние стало слабее, естественно, сейчас больше, чем год назад, и это в разных отраслях.
Нельзя сказать, что это всё сконцентрировано где-то в одном месте. Это так, скорее, «ровным слоем» наблюдается по экономике. Есть отрасли в более критичном состоянии — небольшие производители угля, какая-то коммерческая недвижимость, потому что маркетплейсы и новые форматы вытесняют часть спроса. Где-то это застройщики, но и там картинка разная: кто работает с семейной ипотекой или по спецпрограммам, например дальневосточной, тот чувствует себя вполне уверенно.
В общем, нельзя сказать, что есть отрасли, где всё плохо, но и таких, у которых есть полный иммунитет, тоже нет.
– Если бизнес долго видит убытки, рынок должен «расчищаться» от слабых.Можно ли ожидать заметных изменений именно в рознице? Я не говорю о массовых банкротствах, но о каком-то сокращении числа игроков.
– Тут совпали два процесса: ухудшение финансового положения компаний и отсутствие сильной динамики потребительского спроса. Поэтому, скорее всего, такое сочетание будет ускорять процессы — количество компаний с неблагополучным финансовым состоянием станет больше. Не видя быстрого оздоровления рынка, они будут вынуждены быстрее принимать решения или соглашаться на предложения о покупке. Наверное, это логично предположить.
Но что касается банкротств — именно банкротств мы не видим. Банкротство — это когда компания уже не может выполнять свои обязательства не только перед банками, но и перед поставщиками, перестаёт платить зарплаты, вынуждена сокращать рабочие дни. В рознице это сложно представить, но в производстве такое бывает. Вот таких ситуаций сейчас чрезвычайно мало.
Для примера: убыток у КАМАЗа — 30 миллиардов рублей. И что? Компания продолжает работать.
–То есть есть высокая вероятность, что отскок наступит раньше, чем этот процесс сокращения числа компаний станет заметным?
– Кажется, да. Ведь весь этот «ужас и кошмар» со ставкой длится не так долго, с лета прошлого года. Ещё весной тогда все ожидали, что вот-вот Центробанк начнет снижать ставку. Но случилось то, что случилось: из-за избытка кредитных и бюджетных вливаний инфляция ушла вверх, доходы сотрудников по всей стране росли быстрее инфляции и подталкивали спрос.
Высокая ключевая ставка часть этих денег отвела на депозиты. И хотя мы видим, что они пока не вернулись в экономику, но будут постепенно возвращаться по мере снижения ставки. Так что этот период, этот год, ещё недостаточно долгий, чтобы всё начало “трещать по швам”. К тому же ему предшествовали два очень благополучных года.
–Есть ли у тебя какие-то предположения или ожидания, когда может наступить этот разворот, «отскок»? Потому что боль сейчас ощущается фактически во всех секторах ритейла. Есть товарные категории, которые падают на 40–50% — это существенно.
И при этом, если я правильно понимаю, реальные доходы населения не снижаются. Получается, что дело не в деньгах, а скорее в эмоциях: мы изменили своё поведение под их влиянием. Деньги есть, но мы несём их не в магазин, а на депозит в банк.
– Вопрос в том, вернутся ли эти деньги в материальное потребление или уйдут куда-то ещё. Мы видим, что основной прирост депозитной базы пришёлся на людей с доходом выше среднего. Они сегодня себя ни в чём не ограничивают, и для них снижение ставок по депозитам скорее станет стимулом искать другие инструменты для инвестиций. Вряд ли они ждут момента, чтобы эти деньги просто начать тратить. Возможно, лишь часть вернётся в потребление.
Поэтому правильнее смотреть на другое — насколько сохранится высокая занятость в экономике и насколько сектора смогут поддерживать достойный уровень зарплат. В нашей картине мира следующий виток роста экономики в 2026 году (+2,5% ВВП) должен сопровождаться опережающим ростом потребления.
При этом безработица может немного подрасти. Оборонно-промышленный комплекс уже не нанимает: мощности работают 24/7, их загрузку повышать невозможно. Стройка тоже притормозила из-за высокой ставки, новые проекты не запускались, и чтобы они «раскачались» и создали дополнительный спрос на рабочую силу, нужно время.
Поэтому ожидать всплеска потребительского спроса быстрее, чем через год, нереалистично. Мы думаем, что примерно через год ключевая и депозитная ставки снизятся до 10–12%, что для российского потребителя будет соразмерно инфляции. Сейчас депозиты давали доходность существенно выше инфляции и альтернативных инструментов. Когда соотношение станет более «справедливым», люди, условно, скажут: «Сколько зарабатываем — столько и тратим». Деньги перестанут уходить в «кубышку» и будут оставаться в потреблении — вместе с доходами от зарплат и социальных выплат.
Кстати, норма сбережений в России стабильна — около 10% доходов. Доход российских потребителей составлет примерно 110 трлн рублей в год, и около 10% из этой суммы стабильно сохраняется.
Нам кажется, что все понесли деньги в банки. Но на самом деле прирост вкладов во многом связан просто с ростом зарплат. В номинальном выражении они выросли, и депозиты выросли вместе с ними. А как доля — почти не изменились.
Норма сбережений всегда держится на уровне 8–10%. Разница между годами, когда сильно «досберегали», и годами, когда почти не сберегали, — всего около 1,5%.. Очень небольшая.
–Это для меня фантастическая новость. Я бы даже сказал — открытие!
И ещё про одну «боль». Может быть, это было уже некоторое время назад, но всё же событие летнего периода. В бизнес-кругах обсуждали, что крупные банки испытывают дефицит ликвидности. И вот на этом фоне все слегка паниковали.
– А в чём это выражалось? В том, что банки не выдавали кредиты? Центральный банк, чтобы поддержать стабильность системы, серьёзно повысил требования к достаточности капитала. Поэтому проблемы были скорее с краткосрочной ликвидностью: не с ликвидностью в целом, а с тем, какая часть средств вложена в долгосрочные бумаги и сколько можно быстро превратить в деньги — за месяц, за три.
Но реальной проблемы с ликвидностью нет, потому что фактически спроса на кредиты почти не было. Наоборт: депозиты «пухнут», как в такой ситуации вообще могут возникнуть проблемы с ликвидностью? Их просто нет.
– У меня такое ощущение, что за последние пять лет мы должны были иметь план на всё: и на пандемию, и на войну. И вот теперь, наверное, логично иметь план на случай разрядки, правда?
По-прежнему неопределённость огромная. Но если представить позитивный сценарий — что может происходить в первую очередь? Сначала в экономике в целом, а потом уже на рынке. О чём бизнесу стоит подумать заранее, если такой сценарий начнёт разворачиваться? Причём, возможно, довольно стремительно.
Как может выглядеть этот «план на разрядку»?
– У меня нет такого готового ответа, если приземлять всё на конкретные бизнесы, но мы, конечно, обсуждали это внутри с коллегами. Американские санкции будут сниматься быстрее, чем европейские. Европейские могут сохраняться очень долго. И поставщики, связанные с ними, с их комплектующими и продукцией, вернутся на рынок последними.
Первый вопрос — это американцы. У них обязательно будут какие-то большие знаковые проекты в энергетике — что-то вроде Sakhalin Energy и подобных. Потом, наверное, санкции будут постепенно сниматься и коснутся, скорее всего, энергетического и ресурсного экспорта.
Потому что движение товаров в контейнерах через границу, из Китая или ещё откуда-то, а также логистика платежей — это уже перестало быть проблемой. Все научились платить, это стоит понятных денег. Такие решения предлагают все банки, у Сбера — миллион вариантов для бизнеса любого размера практически во все страны.
С Америкой у нас и так никогда не было больших торговых объёмов, поэтому быстрой нормализации товарных потоков, как до 2022 года, не будет. Европа будет сопротивляться дольше всех. Поэтому быстрого возвращения к статус-кво не будет. И угрозы, что европейские игроки быстро вернутся как конкуренты, я считаю, нет.
Скорее всего, первыми будут возвращаться производители. Думаю, что та же Pepsi придёт быстрее, чем Danone, и все они вернутся раньше, чем условные Massimo Dutti. Производители будут быстрее.
А дальше уже создаются специальные комиссии, и президент Путин не раз говорил, что каждую заявку будут рассматривать под лупой — запускать или нет. Возможно, за вход тоже придётся платить налог, как брали за выход, чтобы поддержать бюджет, которому непросто. В этом году самое проблемное место в экономике — это федеральный бюджет.
– Можно подробнее?
– От 6 до 8 триллионов рублей может составить дефицит бюджета. Это очень большая цифра. Начинали год с 3–3,2 триллиона, а потом по итогам семи месяцев оказалось, что рост доходов всего 5%, а рост расходов — 20%.
Бюджет в этом году уже должен был показывать признаки консолидации, то есть расходы расти вровень или ниже доходов. А тут доходная часть дрогнула: слишком крепкий рубль, слишком низкая цена на нефть. По нефтегазовым доходам недобор, наверное, около 2 триллионов рублей.
Рублёвая доходная часть бюджета хоть и пополнилась: где-то 600 миллиардов пришло от повышения ставки НДФЛ, около триллиона могло бы прийти от повышения налога на прибыль. Но прибыли с такой высокой ставкой начали падать, и с чего их собирать? Количество убыточных компаний растёт, они налог на прибыль не платят.
Поэтому доходная часть бюджета складывается хуже ожиданий, чего не было два предыдущих года. Тогда доходы удивляли со знаком «плюс», и можно было тратить больше, чем прогнозировали. А в этом году приходится тратить больше, а закрыть дыру пока нечем.
Хотя не то чтобы совсем нечем. У России низкий государственный долг: будут выпускаться ОФЗ, есть ещё около 3,5 триллиона рублей ликвидных денег в ФНБ. Источники покрыть дефицит есть. Но любой дефицит у нас проинфляционный. Это значит, что деньги будут, условно говоря, допечатаны и через выпуск ОФЗ и банковскую систему попадут в экономику. А это возвращает инфляцию на траекторию роста и снижает шансы, что Центральный банк пойдёт на снижение ставки.
Наш прогноз по ставке такой: 12 сентября снижение на 200 базисных пунктов — до 16%. Потом, в октябре или ноябре, заседание без изменений. Возможно, ещё минус 100 пунктов в декабре. Год закончим с ключевой ставкой 15%. Это базовый сценарий. И дальше в следующем году снижение — до уровня 10–12% к концу года, посмотрим, как будет исполняться федеральный бюджет
– Звучит тревожно. При этом звучит, когда обсуждают бюджет следующего года или трёхлетний план — формулировку «сбалансированный бюджет». И мне хочется понять, как это интерпретировать. Речь идёт о том, что будут сокращать государственные расходы?
– В современной российской истории не было такого, чтобы расходы бюджета сокращались. Темпы их роста могут замедляться, но в целом они только растут.
Когда говорят о «сбалансированном бюджете», имеют в виду, что дефицит должен стремиться к нулю или, по крайней мере, не превышать 1,5–2% ВВП. Вот это и называется сбалансированный бюджет.
Сокращения расходов не будет. Идёт СВО, предстоит восстанавливать территории, плюс у государства множество инвестиционных программ, где оно выступает подрядчиком и инвестором. Поэтому сокращения бюджетных расходов точно не будет — тут можно не переживать.
– Это обозначает, что и доходы россиян тоже сокращаться, видимо, не будут?
–Нет, не похоже. Уравнивание расходов и доходов может происходить за счёт того, что отдельные статьи расходов будут под более пристальным контролем, чтобы они не росли темпами по 20% в год.
Доходную часть, скорее всего, будут усиливать за счёт налогов с высокодоходных и высокомаржинальных индустрий, к которым розница не относится. Ставку НДС, хотя кажется самым простым вариантом — поднять на 1 п.п. и сразу получить дополнительные миллиарды рублей, — я думаю, повышать не будут. После уже состоявшегося повышения шкалы НДФЛ это было бы маловероятно.
Доходы физических лиц дополнительными налогами тоже вряд ли будут облагать. Поэтому, с точки зрения потребительского спроса и доходов населения, ситуация выглядит спокойно. Может быть, не стоит ждать колоссального роста, но и сокращения мы не видим.
–Перед последним вопросом — про курс рубля — хочу уточнить ещё один момент. Мы затронули тему потребительского кредитования. Как я понял, какие-то «ростки роста» касается только юридических лиц, и в этой связи вопрос: есть ли риски, связанные с долговой нагрузкой? Что там с просрочками и подобными историями — не накапливаются ли они?
– Есть такое, но планки под это выдержаны. Всё-таки безработица не растёт, она очень низкая. Уровни зарплат никто не снижает, никто не сокращает зарплаты — просто предлагается рост или индексация, чуть ближе к инфляции, ничего сверхъестественного. Но некоторые респонденты в нашем опросе Иванова говорили, что им в этом году вообще не обещали повышения зарплаты. Поэтому они, наверное, с учётом инфляции будут в более тяжёлом положении.
Центральный банк уже давно озабочен этой ситуацией: и потребительские кредиты, и ипотека — всё это требует соблюдения лимитов. Они сделали более строгими требования по сочетанию уровня долговой нагрузки и дохода заёмщика. Там всё, как нам кажется, с большим запасом прочности.
Нового спроса на кредиты нет, и даже лимиты по кредитным картам подупали.
– Ну, то есть, с одной стороны, стабильность это здорово. Но для розницы здесь пока нет позитивных сигналов с точки зрения роста трат.
Если всё суммировать, получается очень плавная картина. Даже не торможение, а скорее выход на плато, стагнация на несколько кварталов.
В вашей картине мира «отскок» — это горизонт где-то следующего лета, правильно?
– Скорее всего, оживление начнётся весной — в начале лета следующего года, не раньше. Зимний сезонный спрос, конечно, будет. Плюс занятость в экономике остаётся высокой, доходы не падают. Может, они и не растут так быстро, как в предыдущие два года, но всё же не снижаются.
– Я могу только констатировать этот факт: впервые в нашей практике доходы не падают, а покупательская активность настолько сильно снизилась.
Одна из задач на стратсессии — обязательно постараемся разобраться, что в основе этого явления. Потому что про депозиты все понимают, но, удя по всему, они играют не такую уж огромную роль. 10% это не критично.
Что можно сказать про курс? Звучит огромное количество прогнозов — и на конец года, и дальше.
– Да, у нас прогноз курса рубля на конец сентября — 85, на конец декабря — 92. Я говорю к доллару, можно и к юаню, но давайте всё-таки к доллару, так привычнее.
Мы ожидаем плавное, без резких скачков, ослабление рубля. И связано оно, прежде всего, с тем, что если мы окажемся правы и в сентябре действительно будет снижение ставки, а ЦБ в риторике подтвердит её дальнейшее снижение, то это закрепит тренд на замедление инфляции.
Сейчас именно действия крупных экспортеров, которые заводили валюту — юани, меняли их на рубли и размещали под высокие ставки, — создавали избыточное предложение валюты. А спроса не было: ни потребительского, ни инвестиционного. Во многом именно это и привело к позиции «сверхкрепкого» рубля, на которую потом жаловались сами экспортеры.
Казалось бы, крепкий рубль должен был стимулировать импорт, но он почти не вырос. Может быть, 1–2% в июле к июню, но в годовом выражении, в долларах, роста почти нет. В этом году импорт составит около 300 млрд долларов — столько же, сколько в прошлом, может быть, 305.
Поэтому именно сокращение избыточного предложения валюты со стороны экспортеров, которые перестанут заводить её в таких объёмах ради высокой ставки, будет способствовать постепенному ослаблению рубля.
Кстати, с этим прогнозом многие не согласны. Я уже озвучивала его, и мне сказали: «Наталья, у вас один из самых пессимистичных прогнозов по рублю». Большинство ждёт, что он останется крепким: кто-то говорит 90, кто-то 85, кто-то вообще 80 до конца года. Сейчас консенсус скорее в том, что вот он — новый 80-й рубль, и придётся учиться с ним жить. Хотя он неприятен и для экспортеров, и для бюджета.
Но, как я говорила уже не раз, ЦБ не вмешивается в валютный рынок, не пытается поставить рубль на 95–96, потому что так заложено в бюджете Минфина. Нет. За каждой цифрой курса стоит рынок: спрос и предложение. Сейчас предложение избыточное, а спроса на валюту мало. Вот и всё.
– Для резкого ослабления тоже нет факторов, верно?
– Нет, так точно нет. Резкого ослабления не будет. Для этого нужно, чтобы закончилось СВО и открыли границы для свободного движения капитала. Тогда все бы сказали: «Хотим перевести деньги в доллары, вложиться в европейскую или другую недвижимость, купить американский фондовый рынок. Мы изголодались». Но этого не будет.
Отсутствие свободного движения капитала как раз и есть залог того, что резких движений рубля сейчас не будет. Не будет таких скачков, как мы недавно видели: то 100, то 155. Хотя и тогда уже действовали ограничения на движение капитала. Просто возникали единоразовые факторы, которые рынок переваривал: санкции на Московскую биржу, на Газпромбанк, перекосы с предложением валюты у крупных экспортеров. Всё это были разовые акции, которые и создавали избыточную волатильность.
– Трудно прогнозировать именно открытие границ, снятие ограничений на движение капитала или сами факторы, которые могут привести к разрядке?
Иными словами, даже если границы для денег откроются в обе стороны — вовсе не факт, что будет большой спрос на покупку активов за рубежом!
– Ну да, потому что для этого должна произойти полноценная разрядка.
Во-первых, никакой европейский банк всё равно не примет от нас средства, даже если мы откроем границу и скажем: пожалуйста, выводите капитал куда хотите. Нас нигде не примут. Это одно.
А второе, и, может быть, ещё более интересный вопрос: представим, что всё закончилось и границы снова открылись. Не хлынет ли капитал наоборот к нам? У нас очень дешёвый фондовый рынок и очень высокие ставки по рублю. Не привезут ли сюда столько долларов, чтобы обменять их на рубли и попытаться поучаствовать в росте рублевых активов после нормализации? Как бы рубль в этом случае не укрепился до 50.
То есть сама по себе нормализация для валюты — очень большой вопрос. Мы тоже постоянно это обсуждаем.
В сухом остатке: резкого ослабления рубля до конца года мы точно не ждём. И в следующем году тоже. По нашему прогнозу, к концу следующего года курс будет около 100 рублей, но придёт туда очень плавно — с уровня 92 в начале года до 100 в конце. Это примерно вровень с инфляцией.
–Наталья, спасибо огромное. Для меня самое приятное сегодня — это общее спокойствие. Нет поводов ждать резких колебаний, мы двигаемся в том ритме, к которому уже привыкли. Главное — снижение ставки, и это неизбежно будет влиять на рынок.